
Крупные ученые часто замкнуты в круге своих идей. А русского философа Алексея Лосева отличал удивительный интерес к чужой личности, к чужой мысли. Об этом рассказывает проф. МГУ им. М. В. Ломоносова, д. фил. н., куратор научной деятельности Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева» Елена Тахо-Годи
— Как племянница Азы Алибековны Тахо-Годи, спутницы жизни Алексея Лосева, Вы с детства часто бывали в доме Лосева. Каким он был в жизни — непонятным эксцентричным гением, закрытым от мира и людей?
— Я видела Алексея Федоровича в разных ситуациях: дома, на Арбате; во время летних каникул на даче в поселке Отдых… Алексей Федорович был человеком живым, страстным, горячим, полным юмора, сарказма. О нем, с одной стороны, можно вспоминать бесконечно, с другой стороны, очень сложно рассказывать. Недавно «Дом А. Ф. Лосева» издал воспоминания о Лосеве Галины Даниловны Беловой. В этих мемуарах Лосев предстает совершенно живым человеком — таким, каким его знали люди, общавшиеся с ним в разных ситуациях. Галине Даниловне удалось воскресить очень разного Алексея Федоровича: веселого и грустного, строгого и умеющего поддержать людей — близких и даже иногда далеких, но интуитивно ощущающих в нем духовного руководителя, почти старца.
— Алексей Федорович работал с производительностью целого научно-исследовательского института. А ведь при этом у него были серьезные проблемы со здоровьем?
— У Алексея Федоровича было замечательное, можно сказать, завидное здоровье, унаследованное им от его предков. Мы на сайте библиотеки «Дома А. Ф. Лосева» в минувшем году разместили генеалогическую таблицу, родословную Алексея Федоровича, — попытались восстановить его казачьи корни. По данным, которые у нас есть, начиная с конца XVIII века, предки его были очень воинственные, участвовали в сражениях, отличались храбростью. И Алексей Федорович унаследовал не только казачий боевой дух, но и чисто физическую силу. Он был человеком очень мощным, высоким, за метр девяносто ростом — уже в старости. Когда позднее я читала его лагерные письма 30х годов — в 2005 г. они вышли отдельной книгой под названием «Радость на веки», — на меня произвело впечатление то, как он – абсолютно здоровый, физически сильный человек — за несколько месяцев работы на беломорском лесоповале практически стал инвалидом. Именно там и началась потеря зрения, которая постепенно прогрессировала. К 50-м годам он уже не мог самостоятельно читать и писать. Когда я появилась на Арбате, он уже ничего практически не видел, только отличал свет от тьмы.
— Но и чудовищная близорукость не помешала Алексею Федоровичу проделывать огромный объем работы с текстами. Он не делился с Вами секретами, как строить исследование, как организовать столь производительную работу мысли?
— Никаких специальных рекомендаций, как организовывать свой день, труд, я от Алексея Федоровича никогда не слышала. В конце 1910-х годов, когда он был молодым человеком и преподавал в гимназии, психология и методы воспитания его очень волновали. Может быть, тогда он пришел к мысли о том, что воспитывать человека можно только своим примером? Иногда ведь достаточно одной фразы.
Расскажу такой эпизод. Я была уже студенткой и начинала писать первую курсовую работу о тогда совершенно всеми забытом поэте Константине Случевском. Я рассказывала Алексею Федоровичу о своих «открытиях». Он с живым интересом слушал мои повествования о связях Случевского с Владимиром Соловьевым — он тогда писал большую книгу о Соловьеве, где в том числе шла речь о связях Соловьева с русской литературой. Тогда мне попалась какая-то параллель между поэзией Случевского и философией Шопенгауэра — параллель, не лишенная оснований, если мы вспомним, к примеру, интерес к Шопенгауэру старшего современника Случевского и тоже поэта — Афанасия Фета. И я решила пойти легким путем: немного почитав кое-что о Шопенгауэре, я подумала, что проще всего расспросить о нем Алексея Федоровича, для солидности попросив его объяснить, как понимает Шопенгауэр закон достаточного основания. Конечно, Лосеву не составило бы труда рассказать мне о Шопенгауэре и его книге «Мир как воля и представление», о которой он сам с восторгом писал в 1918 году (мне посчастливилось републиковать несколько лет назад эту не входившую ни в один его список печатных работ небольшую статью). Но, видимо, он мой замысел сразу раскусил. Не забуду его насмешливую улыбку и брошенную фразу: «А нельзя ли как-нибудь без Шопенгауэра?..» Эта фраза, с одной стороны, значила, что если хочешь уж писать о Шопенгауэре, то изволь для начала сама все досконально изучить. Но главное — она навсегда научила меня избегать в своих работах откровенного дилетантизма. И когда порой мне хотелось вдруг пуститься в какие-то рискованные сопоставления и не слишком продуманные параллели, я повторяла ее сама себе: «А нельзя ли как-нибудь без Шопенгауэра?..» Это не было обидно, это был урок, за который я признательна по сей день.
Кстати, девочкой я не видела ничего необычного в том, как живет, работает, пишет книги Алексей Федорович. Его день был четкий: в час дня приходил секретарь, Лосев до пяти вечера диктовал, и мне казалось, что это абсолютно нормально, что в этом нет никакого труда. Потом уже, когда Алексея Федоровича не стало, я сама занялась научной работой и многое поняла. Попробуйте закрыть глаза и представить, что вы не можете взять ни одну книжку в руки, не можете перечитать свой текст, что вы полностью зависите от окружающих вас людей, и если нет секретаря — значит у вас потерян день… Но ребенком я считала, что иначе просто быть не может, что это нормальное времяпрепровождение, что у каждого есть свои увлечения, и вот у Алексея Федоровича такое: сидеть и диктовать… Отработав целый день, он потом еще вечером встречался с гостями. Где-то в девять часов на Арбат приходили гости, и беседы бывали до полуночи. Никто не думал о том, что Алексею Федоровичу надо на следующий день снова диктовать, а он, естественно, про это не говорил.
Что я любила в нем и все реже встречаю вокруг себя — это удивительный интерес к чужой личности, к чужой мысли, мнению. Часто встречаются крупные ученые, замкнутые в мире своих идей. Эти идеи могут быть замечательные, прекрасные, их авторы могут с большим энтузиазмом говорить о том, чем они занимаются. Но стоит их «рядовому» собеседнику, допустим, студенту, начать повествовать о своих изысканиях или попросить прочесть свой текст, как они зачастую тут же гаснут — весь интерес исчезает. А Алексей Федорович просто зажигался, когда видел, что человеку что-либо интересно, он с большим энтузиазмом начинал в это вникать. Недаром он с готовностью публиковался в журнале «Студенческий меридиан», к чему многие снобы — а снобы были и в советское время — относились презрительно. Но для Лосева важна была не просто его собственная мысль, а, вообще, жизнь в мысли, и не важно, кто эту мысль продумал, кто ее воплощает. Если это действительно мысль, она заслуживает максимума внимания, максимума энтузиазма и максимума поддержки – независимо от того, кто ее носитель.

 +7 916 562 8095
+7 916 562 8095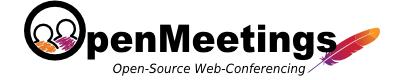
Комментариев нет :
Отправить комментарий